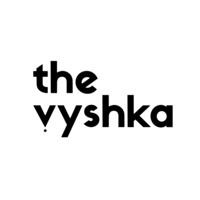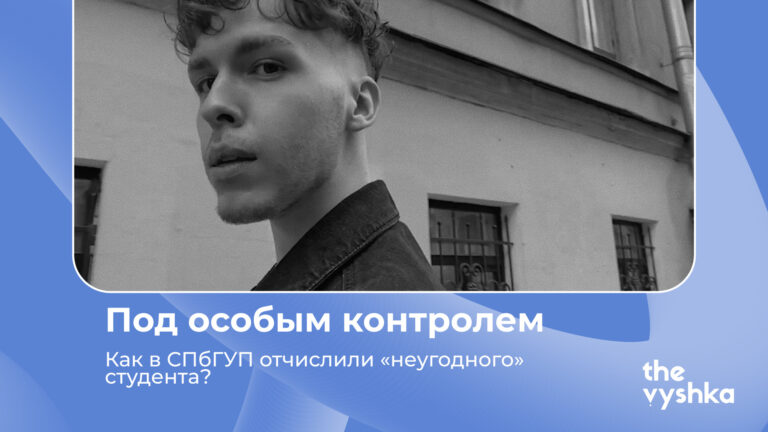Археология смерти и постсоветского
Что такое death studies и почему они непопулярны в России? Кросс-медиа проект «Последние 30» — критика постсоветского периода или попытка переосмысления истории? Об этом и многом другом The Вышка поговорила с социальным антропологом и историком Сергеем Моховым.
Кто: Сергей Мохов, выпускник факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ, социальный антрополог, историк
Образование: факультет прикладной политологии НИУ ВШЭ; PublicHistory в МВШСЭН
Проекты: Научный журнал «Археология русской смерти» и блог nebokakcofe.ru, кросс-медиа проект «Последние 30»
Death studies в России
Так уж получилось, что всю жизнь у меня и моего лучшего друга и однокурсника, Сергея Простакова, была тяга к теме мортальности. В какой-то момент я понял, что мне это интересно в академическом смысле.
Еще в бакалавриате я решил, что хочу заниматься наукой, прикладными исследованиями, и, начав искать, копаться в материале, пришёл к выводу, что death studies– совершенно дикое поле для российской науки
Понятие death studies в междисциплинарном формате широко присутствует на Западе. Если не ошибаюсь, то только в одной Великобритании издаётся около пяти журналов на эту тему. Некоторые из них ведутся аж с 70-х годов прошлого века, например, Omega. Когда захожу на их сайты, мне хочется плакать: понимаю, насколько мы вообще выпали из этой темы.
В западной антропологии death studies посвящены главным образом death and dying, то есть именно смерти и умиранию. Люди исследуют хосписы, исследуют, как респонденты переживают процесс принятия смерти, скорой или не очень, как описывают свой процесс умирания в блогах, объединяются вокруг проблемы смерти (например, человек умирает, и они делают что-то коллективное). В России же тема смерти во многом связана именно с кладбищем как локацией. Смерть = кладбище. Это интересный феномен.
В российском обществе отношение к смерти очень сложное. О смерти не принято говорить: это табуированная тема. У социолога Дмитрия Рогозина есть замечательный материал о его этнометодологическом эксперименте на этот счет и работе с респондентами. Почитайте.
Молодым говорить о смерти тяжело: они о ней просто не думают и не сталкиваются с ней. А вот для старшего поколения смерть — это один из основных лейтмотивов рефлексии. Выражаясь языком Роберта Лифтона и Эрика Олсона – через подобные размышления приобретается«символическое бессмертие».
Я считаю, что в России большая проблема: мы не знаем, что и как нужно говорить о смерти, на чём делать акценты
Death studies нет в России как отдельной дисциплины. Существуют дисциплины, в которых смерть является предметом исследования. Фольклористика, социология, например. Но как отдельных «studies» нет.
Ещё есть понятие некросоциологии – термин, который у нас вообще не особо используется. Его придумал замечательный человек Л. Ионин, профессор НИУ ВШЭ. Я был в восторге от этого термина в свое время: вот чему я должен посвятить свою жизнь – некросоциологии! Мне безумно нравится понятие death studies, но за некросоциологию я тоже активно радею. Death studies—это более широкое понятие, а некросоциология –уже.
Эмоциональный подход
В западной антропологической мысли проблема «табуированности» была в какой-то мере пережита ещё в 80-х годах
Социолог Ренато Росальдо вместе с женой занимался исследованиями филиппинских горных племён. В 1982 году, во время одного из полевых исследований, жена сорвалась с обрыва и скончалась. В течение года Росальдо пребывал в ужаснейшем состоянии, ничего не писал, но потом опубликовал потрясающую статью, вызвавшую огромную полемику. Во-первых, он писал, что наконец-то понял, о чём ему говорили филиппинские его и лонготы. Рассказывая о смерти и ритуалах, они всё время упоминали о ненависти, злости, обиде. Как матерый структуралист, он не придавал этому значения. И вот сейчас осознал, что схожие эмоции он переживает и сам: он обижен и рассержен на жену. Росальдо убеждает коллег, что мы должны говорить об эмоциях, говорить о смерти с эмоциями. Он ввел термин «Cultural Force of Emotions». Обычно антрополог выступает в роли отстранённого наблюдателя, как будто обряды похорон — это то же самое, что и обряд посева хлеба. Ренато Росальдо заявляет, что необходимо включаться, переживать и не бояться того, что академические тексты станут более литературными и эмоциональными.
В современной западной культуре похороны это не ритуал, а скорее коммеморативный акт. Сам процесс похорон трансформировался настолько, что мы больше не можем наблюдать, что делают с телом как с субъектом обряда. Сейчас тело практически исчезло из процесса похорон. Когда человек начинает умирать, его сразу же помещают в больницу или хоспис, и общество не видит самого процесса умирания. Человек умирает – тело тут же помещается в морг. Потом его выдают для погребения. Тело как субъект короткое время присутствует на похоронах, а потом его быстро погребают. Таким образом, из похорон уходят, вернее, серьезно трансформируются фазы отделения от общности живых и включения в общность мертвых. Похороны все больше приобретают черты не обряда и ритуала с телом, а коммеморативного акта.
Nebokakcofe.ru
Как-то летом 2012 года мы с Серёжей Простаковым гуляли по кладбищу и говорили о том, что в России нет ничего по теме смерти — унылая пустота. Тогда ещё более-менее была популярна тема блогов: ЖЖ только начал загибаться, а Facebook ещё не стал платформой для интеллектуального самовыражения. И мы решили сделать блог. Быстро родилось название «Небо как кофе» — как дань Егору Летову (гр. «Гражданская Оборона»), быстро нашлась фуконианская привязка: у Фуко — «Археология знания», а у нас — «Археология русской смерти». Мы решили, что будем «копать», чтобы понять, как и почему смерть присутствует вот в таком виде в России.
Помимо сбора уже готовых текстов, решили писать что-то сами. Есть такой академический формат preprint, когда человек выпускает предпечатную версию для обсуждения. И мы подумали, что будем тоже выпускать какие-то вещи, писать о том, что мы думаем. Очень быстро поняли, что люди вести обсуждения не собираются, но посещаемость блога росла,вместе с ней рос процент цитирования. Было видно, что блог интересен. Вскоре стало ясно, что в определённой среде есть интерес и дело надо как-то продолжать развивать.
Научный журнал «Археология русской смерти»
Несколько раз мы пытались собрать деньги на книгу, но все попытки были провальными. Мы понимали, что блог блогом, но надо делать уже что-то ещё. Однако всегда в воздухе витала идея журнала.
Переломным моментом для меня стало письмо от Сергея Кана, профессора Дартмутского колледжа, сотрудника Гарвардского центра славистики. Он эмигрировал в 1974 году в США и сейчас занимается native American studies, изучает индейцев и преподаёт death studies. В своём письме он писал, что у него нет возможности следить за русскоязычными публикациями, но он следит за нашим блогом, потому что мы собираем всю доступную информацию. Он писал, что мы молодцы, сделали очень круто и замечательно. Я понял, что это какой-то «знак», «подарок судьбы» и надо что-то делать с выпуском журнала.
Журнал называется «Археология русской смерти», во-первых, потому, что мы пишем на русском языке. А во-вторых, мы пытаемся писать о том, что происходит в России, на постсоветском пространстве.
DIY – Do It Yourself
Журнал – это моя главная гордость. Нам предлагали пойти в издательство, куда-то вписаться, различную помощь, но мы делали журнал полностью по принципу DIY – Do It Yourself, по принципу open-science. Да, получается «самопал», но совершенно не значит, что это плохо. Я понял, что этот формат имеет право на жизнь, когда узнал от Алексея Куприянова, что есть в западном социологическом сообществе человек, который вообще не публикуется в научных журналах, считая, что это долго, убого и бессмысленно. У него есть свой блог, где он вывешивает свои препринты. Так как он пишет действительно стоящие вещи, все его знают, на него часто ссылаются, то его блог функционирует как Научный Журнал Имени Себя.
Команда наша полностью набрана из моих друзей-единомышленников. Работаем на энтузиазме и за символическую плату. Это отличные люди, которым я благодарен. Прежде всего, нашему дизайнеру и верстальщику Алене Салмановой, иллюстратору Карине Надеевой, редакторам Марии Вятчиной и Еве Рапопорт и, конечно, моему коллеге, идейному соратнику и лучшему другу – Сергею Простакову. Это смелые люди.
Нам неинтересен список ВАК, базы цитирования и прочие атрибуты научной бюрократии
Мы делаем всё по принципу DIY, потому что нам никто не диктует, как это должно выглядеть, какие тексты ставить, а какие — нет, что публиковать, где регистрироваться и так далее и тому подобное. Единственное, что мы получаем – это ISSN, чтобы журнал было удобнее распространять.
Главное, что мы стоим на том, что делаем академический журнал, а значит, нужен академический формат текста. То есть обозначенные мной принципы DIY не должны приводить к потере качества материала. В современной России большинство журналов ВАК имеет якобы систему рецензирования, коррекции и т.д., но качество публикаций находится на ужасном уровне. Я знаю не больше 10 гуманитарных журналов, которые я могу читать на русском языке. Большинство из питерских институций: ЕУСпб, ЦНСИ.
Мы сталкиваемся с проблемой, что люди, которые хотят писать о смерти, не умеют и не знают, как это делать, как заходить в это поле. Поэтому наш журнал, хоть изначально и позиционируетсякак научный и придерживается академического формата, будет более лоялен к текстам, потому что тема очень сложная и новая. Мне самому надо очень многому учиться, чтобы писать хорошо.
Журнал, которого не видело российское научное сообщество
Сейчас выйдет первый выпуск, и мне кажется, что в России никогда не было такого научного журнала, как у нас. Обычно, когда берёшь в руки научный журнал, его хочется сразу же выбросить. Обложка, нарисованная в Paint, бумага, верстка – просто ужас. Мы же сделали свой журнал красивым, стильным, таким, который приятно держать в руках.
К сожалению, в первом номере публикуются только девять статей, хотя планировалось больше. Одна из статей написана старшим преподавателем кафедры истории и теории культуры факультета истории искусства РГГУ Светланой Еремеевой. Она написала полемический текст, почему death studies непопулярны в России, — попытка сказать, что из-за невозможности оценивания собственной жизни у россиян происходит низкое восприятие смерти.
Я вижу социальную миссию нашего журнала в том, чтобы вообще начать говорить на эти темы
Деньги на издание мы собрали на Planeta.ru. Не ожидали, что нам столько дадут – 105 тысяч рублей. Очень много мы заплатили за типографию. Журнал вышел дорогой, потому что мы круто разошлись на бумагу и оформление. Когда я считал себестоимость журнала, то у меня выходило сто с лишним рублей. На «Планете» я поставил экземпляр за 250 рублей. То есть,ты покупаешь журнал и даёшь мне возможность за счёт этих денег напечатать ещё один. А вышло иначе: себестоимость одного номера сейчас почти 240 рублей. Работаем в ноль.
Нынешний тираж 300 экземпляров практически распродан. Сейчас из печати выйдут около 100-120 штук, которые поступят в два московских магазина: «Фаланстер» и «Циолковский», и один — в казанскую «Смену». Обязательно будет выложена в свободном доступе электронная версия. Разумеется, уже бесплатно.
«Последние 30»

«Последние 30» — это проект, целиком придуманный журналистом и историком Сергеем Простаковым и фотографом Сергеем Карповым.
Основная идея — выявление феноменов постсоветского пространства
Карпову давно хотелось заняться документалистикой, а Простакова всегда интересовали интеллектуально-рефлексивные темы. Быстро родился формат проекта в духе гегелевского триединства: текст учёного, текст журналиста и галерея. После — позвали меня, потому что я немножко историк по образованию. Карпов снимает, я беру интервью у «социальщины», а Простаков — у «интеллектуальной» части. Вот так и работаем.
Если проект и выглядит как критика постсоветского периода, то здесь нет нашей вины как авторов. Наша авторская позиция сводится к минимальным вещам: выбор темы и выбор героев, который во многом связан не с авторской позицией. Подбор учёных и подбор журналистов — тоже наша авторская задача, и где-то мы формулируем определённый дискурс вокруг заданной темы. Но мне кажется, что наше участие сведено до минимума.
Мы не претендуем на истинность. Мы занимаемся oral history, даём людям-участникам конкретных феноменов — самим об этих феноменах поговорить. Это не диалог, а монолог. Человек просто рассказывает свою историю, то, как он видит происходящие события
Продукт «тусовочки» и для «тусовочки»
«Последние 30» — это проработка нашего прошлого. Социальная роль историка во многом заключается в том, чтобы призывать людей: «Давайте об этом говорить! Давайте об этом размышлять!».
Если мы говорим о том, что Россию надо изменить, изменить контекст, ситуацию, то мы должны понять, а что с нами вообще происходило раньше. Потому что, на мой взгляд, за последние тридцать лет мы оказались чуть ли не в начальной точке. События последних двух лет показывают, что в России дико подверженное общество. Ещё в 80-90-х годах люди выходили на улицы, требуя демократии, а сейчас те же самые люди выходят с требованиями убрать её. Хотя чего уже убирать-то?
Проект не массовый и никогда таким не будет. Мы всегда спорим на эту тему. Карпов, например, придерживается мнения, что мы должны донести идею «Последних 30» до масс, выйти за рамки, а не ориентироваться на условную «тусовочку» Twitter’a и Facebook’a. Я же всегда говорю, что это всё равно продукт «тусовочки» и для «тусовочки». И это нормально. От этого никуда не деться, но в этом нет ничего плохого. Конечно, до масс не достучаться, но интеллектуалам это нужнее. Ведь именно интеллектуальная группа людей делает историю, задаёт темы, тренды. Это просто лишний повод поговорить и подумать о том, что с нами происходит.
Текст: Дарина Бунькова
Фото: Полина Медведева